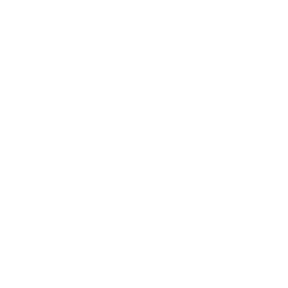
Рис. 1. Настенная живопись в пещере Ласко, Франция
Далее Поршнев "совершенно предположительно" допускает, что "поздние мустьерцы, в высочайшей мере освоив сигнальную интердикцию в отношении зверей и птиц, наконец, возымели тенденцию все более распространять ее и на себе подобных. Эта тенденция в пределе вела бы к полному превращению одних в кормильцев, других в кормимых. Но с другой стороны она активизировала и нейрофизиологический механизм противодействия: асуггестивность, неконтактность" [43]. Последний механизм Поршнев считает промежуточным, уступивший место на более поздних этапах более продуктивному и разумному механизму контрсуггестии. Но это позднее, а пока одни наши предки (кормильцы) побежали от других (суггесторов) буквально на край света, с невероятной интенсивностью распространяясь по лицу земли, а суггесторы за ними. С того момента, как бежать стало некуда, Поршнев отсчитывает начало собственно человеческой, социальной и социально-политической истории.
Ища живых иллюстраций к мыслям Поршнева, я прочел книжку натуралиста и путешественика из Шведции Яна Линдблада [44]. Наблюдения Линблада привели меня к мысли, что человек есть существо, бытийной задачей которого является приобретение способности жить в стрессе. Линблад выделяет два стрессогенных фактора. Первый – повышенная скученность, от которой вымирают даже лемминги, простейшие грызуны, чья нервная система, казалось бы, должна быть предельно устойчивой в силу своей простоты. Однако закон един для всех: не успевая дифференцировать мощный поток раздражений, животные приобретают невроз, а жить с неврозом и обращать его в ресурсный источник для неограниченного самосовершенствования может только венец творения. Второй стрессогенный фактор – появление валюты, которая, во-первых, является следствием избыточности материальных ресурсов, во-вторых, в сути своей не чужда некой доли условности. Недаром богиня Фортуна нередко изображается с повязкой на глазах! Безусловность, простота в общении, взаимная щедрость, радушие наблюдаются на стадиях собирательства и охоты. Сегодня удачлив один, завтра – другой. На стадии животноводства и земледелия условием жизни и стрессогенным фактором становится неравенство. Спровоцировать стресс можно у любых животных, подкармливая их чем-то лакомым, и таким, что они не могут добыть в природе. Сразу же будет преодолен привычный уровень конфликтности в стае, запрещающий драки до крови, не говоря уже о похищениях и убийствах представителей конкурирующей стаи [45]. Здесь важно понять, что животные в стрессогенных условиях долго не живут. Другое дело человек. Один из увлеченных интерпретаторов наследия Поршнева, Б.А. Диденко, развивает ту мысль, что человек, как существо этическое, сформировался в результате экзистенционального шока, полученного в результате поедания одними собратьями других. Животные тоже бывает, в условиях повышенной скученности поедают своих, особенно детенышей, но им не доступен шок, так как они не могут противопоставлять понятия, в данном случае: брат – убийца. Животное, даже если его, сильно обидели (скажем, перебили лапу) может приобрести соответствующий условный рефлекс. Однако "мировая скорбь", болезнь души животным не ведомы, ибо болезнь души есть травмированная память, а памяти, как и души у них нет, так как нет речи, нет способности держать проблемные, в том числе стрессовые, оппозиции, рождающие мысли. Портрет "мыслящего и страдающего тростника", осознающего свою человеческую миссию, представлен на Рис. 2. Воистину: "кто умножает познания – умножает скорбь" (Екклесиаст 1,18). Развивая мысль Б.А. Диденко, можно сказать, что кардинальное обновление экзистенционального шока случилось в культуре и истории ХХ века. Было разрушено добро, институализированное в укладе, традиции, церковном и общественном строе, чтобы заставить нас ощутить, а затем и преодолеть то, что Шенберг назвал "страхом одинокого человека". "Люди, пришедшие от великой скорби" из сна о. Иоанна Кронштадтского как бы не совсем уже люди, что-то в них чувствуется из страны "по ту сторону добра и зла", но есть в них что-то такое новое, неведомое, что не осуждаются они о. Иоанном. Так же и автобиографический герой В.Т. Шаламова, колымский зэк: ему наплевать на свою жизнь, он забыл своих родных, он не верит в любовь, но он не поступит по принципу: умри сегодня ты, а я – завтра. Почему, если добра, родства и любви уже нет? Современный человек, в чем-то подобно Курлилю из Убайда, как бы холоден, он понимает, что природные добродетели суть неотрефлексированные обрывки младенческих программ неразличения Я и МЫ, Я и ТЫ. Он является носителем иной, сверхприродной любви, сознавая, что не является ее источником.
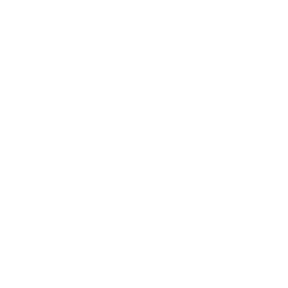
Рис. 2. Курлиль из Убайда
Итак, вернемся к Поршневу, который проводит тщательно согласованные параллели между развитием речевых отделов мозга, реконструируемой антропогенетической линией и стадиями овладения интердикцией, от тормозной через предписывающую к контрсуггестии. Очень схематично опишем историю речевых центров, как она изложена у Поршнева. Древнейший находится в моторной области коры, отвечает за процесс говорения, связан преимущественно с глаголами, что подтверждает догадки некоторых лингвистов об их первичности, особенно в императивной форме, а также гипотезу Поршнева об общественном механизме возникновения речи. Следующий по времени возникновения центр находится тоже в лобной доле, точнее в сенсорной области коры, отвечает за процесс восприятия звуков, связан преимущественно с существительными. Две зоны: "Брока" и "Вернике" находятся в лобной и височной долях и отвечают за точный контроль и точное распознавание произносимых и воспринимаемых звуков соответственно. Есть и другие зоны, упоминаемые Поршневым, но надо отметить, что окончательная карта цитоархитектонических полей до сего дня не нарисована, поэтому будем останавливаться только на необходимом. Во-первых, Поршнев настаивает на том, что историю речевых центров надо проходить от лобной доли через височно-теменные к стыку последних с затылочной, что соответствует "общественной" концепции возникновения речи, а не избирать обратный путь, что соответствовало бы взгляду на древнего человека как "на лавочника-индивидуалиста". Между тем Поршнев твердо стоит на той точке зрения, что уже на заре человеческой истории существовали "антибиологические отношения и нормы – отдавать, расточать блага, которые инстинкты и первосигнальные раздражители требовали бы потребить самому, максимум – отдать своим детенышам либо самкам" [46]. В этом Поршнев не современен, ему не свойственна догадка о происхождении природных добродетелей из неотрефлексированных обрывков младенческих программ. Впрочем, догадка она и есть догадка, но не в благородной ли иллюзии, которой придерживается Поршнев начало культуры? Во-вторых, вернемся к цитоархитектонической карте. Шутливое мнение, состоящее в том, что в трудной ситуации не слишком умный человек чешет затылок, а более продвинутый – лоб, имеет точное научное подтверждение. Высокий лоб отвечает за смыслы, затылок – за оформление найденных (или не найденных) смыслов в слова. Кстати, думаю, в принципе не бесполезно контролировать действие чесательного (тем более с учетом его неадекватности!) рефлекса. В-третьих, Поршнев упоминает о неком префронтальном отделе, находящемся на стыке лобной и теменной долей, несущем важные управляющие функции во второй сигнальной системе, и наличествующем только у Homo sapiens. Насколько я понимаю, у католиков там тонзура, у евреев – кипа, а у православных эта область важна для совершения надзирающей или архиерейской умной молитвы [47].
Теперь обратимся к рабочей модели развития феномена интердикции или провоцирования имитационного рефлекса с привязкой его к тормозной доминанте некоего действия. Выше мы воспроизвели описание того, что Поршнев называет "Интердикция I: генерализированный тормоз, т.е. некий единственный сигнал (не обязательно думать, что он звуковой: вероятнее, что это движение руки), тормозящей у другой особи, вернее, у других особей, любое иное поведение, кроме имитации этого сигнала" [48]. Поршнев настаивает на объяснимости этого зародыша суггестии или второсигнального взаимодействия в рамках первой сигнальной системы. Позволим себе усомниться: для того чтобы в ситуации конфликта с применением грубой физической силы подавать сигналы рукой нужно некое предощущение, что этот сигнал будет воспринят, механизм подражания сработает, и некоторое предзнание, что сымитированное неадекватное действие станет зародышевым центром тормозной доминанты. Так все-таки "кидают камни нам с высоты" или нет? Идем дальше. Если кто-то осуществил первичную интердикцию, сказав веское "нельзя!", то новым витком будет интердикция интердикции, или Интердикция II, т.е.: "Можно!". Поршнев предполагает, что Интердикция II связана с диффузным, т.е. не очень четким с "точки зрения лингвистической" звукоиспусканием. Диффузное звукоиспускание "парировало "Интердикцию I". (...) Можно сказать: оно запрещало запрещать – что и было самым первым проблеском гоминизации животного" [49]. Далее, понятно, следует интердикция интердикции интердикции, семиотическая достаточность которой обеспечивается бинарной оппозицией двух диффузных звуков. Возможно, - предполагает Поршнев, - то была оппозиция звука на вдохе и звука на выдохе. Интердикция III, как отрицание "Можно!", означает "Должно!" и является прямой инфлюативной прескрипцией или суггестией. Поршнев признает, что описанная бинарность является лишь "мысленной реконструкцией", она "не поддается проверке прямым наблюдением", не имеет иных прямых или косвенных подтверждений, кроме упоминаемых Н.Я. Марром четырех древних звуковых комплексов, внутренне диффузных, которые Поршнев считает производными от пересечения исходной бинарности новой.
Каким образом потребности соревновательного процесса интердикции могли влиять на развитие мозга? Есть два явления, проявляющиеся сегодня в патологии, которые, по мнению Поршнева, имели эволюционное значение: персеверация и эхолалия. Первое из них, непроизвольное "подражание себе", навязчивое повторение могло служить инструментом закрепления интердикции, позднее просыпалось "всюду, где требовалось повторять, повторять, упорно повторять, - в истории сознания, обобщения, ритуала, ритма [50]" [51]. Второе, эхолалия, имитация чужого звукового сигнала без совершения действия, к совершению которого побуждает сигнал. "На требование "отдай" субъект отвечает словом "отдай" и тем самым освобождает себя от необходимости отдать". Это уже начало общения: "все-таки обмен словами, хотя и без обмена смыслами" [50]. В качестве реакции на эхолалию потребовалась ее отрицание, "антиэхолалия" или способность диверсификации звуковых сигналов, что повело к игре пониманием-непониманием, развитию соответствующих анализаторов речи и слуха (зоны "Брока" и "Вернике"). Под "фонологическим непониманием" Поршнев разумеет неповторимость звукового сигнала, что приводит к невозможности его парировать. Попутно приводится весьма любопытное рассуждение о продуктивном непонимании в общении между людьми на более поздних стадиях развития. Отказ понимать, как обратная сторона слишком хорошего понимания, требует для своего преодоления и возобновления воздействия перехода на новый уровень, последовательность уровней такова: "1) фонологический, 2) номинативный, 3) семантический, 4) синтаксическо-логический, 5) контекстуально-смысловой, 6) формально-символический" [52]. Излишне повторять, что управление пониманием-непониманием, как таковое, трансцендентно любым нейрофизиологическим механизмам. Уже в рамках интердикционной гонки, по мнению Поршнева, развился механизм ответа молчанием, который стал "первым шагом становления "внутреннего мира"" и "воротами к мышлению" [53]. Не тяжелые раздумья над изобретением новой формы галечного отщепа или каменного топора, а скорее существование в мире все более дифференцированных прескрипций "требовало развития корковых анализаторов, развития перцептивной и ассоциативной систем особого, нового качества" [54]. Поршнев не любит завзятых суггестеров, и тех, кто пытается с ними соревноваться, выделяя их в отдельные категории. Его симпатии на стороне третьей, мирной группы древних людей, в молчании вырабатывающих контрсуггестивные технологии продуктивного непонимания: прежде чем сделать – подумай, а твой ли это путь?
Развитие суггестивных технологий воздействия выразилось во все большем разнообразии и точности предписаний, что сделало недостаточным существующий набор древнейших глаголов-монолитов, выражающих не умозаключения и суждения, а волю и желания, диктуемые сиюминутными потребностями момента [55]. Тут на помощь звуковым глагольным сигналам по версии Поршнева пришли ""вещи" в самом широком смысле материальных фактов – и акты, и объекты. Торможение или предписание какого-либо действия теперь осуществляется не просто голосом, но одновременно и двигательным актом, например руки (вверх, вниз), а в какой-то значительной части случаев также показом того или иного объекта" [56]. Прежде чем слова начали обозначать вещи, вещи обозначали слова! Косвенное подтверждение своей версии Поршнев видит в том, что "древнейшие корни оказываются полисемантическими – целыми семантическими пучками, т.е. одно "слово" было связано с несколькими разнородными "вещами"" [57]. Надо признать, что на эту версию удачно ложатся внелогически сформированные комплексы табуированных и тотемных предметов архаических племен.
Выше мы говорили о первичной бинарной оппозиции звуков, об эхолалии, персеверации. Те же механизмы повторного предъявления жестов или предметов Поршнев предполагает в поле знаков-вещей. Оппозиция, возможно, выстроилась на противопоставлении доступных и недоступных (солнце, луна, небо) вещей. Деструкция, расчленение, преобразование, изготовление двойника служило уже упомянутой гонке интердикционных предписаний и их парирования. "И, наконец, что-нибудь аналогичное молчанию: утаивание предмета от взгляда или отведение взгляда от предмета; недвижимость человека среди вещей – "неманипулирование", "неоперирование" [58]. В утаивании вещи Поршнев видит предпосылку развития внутренних образов, ссылаясь на то, что в условиях изоляции чувств от внешних воздействий даже у животных иногда возникают иллюзии раздражителя. Мы помним, что знаковая система начинается с конвенциональности, что тождественно случайности знаков, а также их взаимозаменимости. Отголоском семиотической деятельности на основе конвенционального или случайного означения служит, на мой взгляд, любовь древних культур к загадкам и притчам. С добавлением к звукам вещей появилась возможность комбинирования различных по своему составу, но функционально идентичных звуко-комплексов. Подлинная революция, по мнению Поршнева, произошла в тот момент, когда посреди этой путаницы сигналы были противопоставлены по модальности: звуковой предметному при функциональной или смысловой тождественности. Поскольку аудиальный и визуальный каналы восприятия антагонистичны (когда один заторможен, другой возбужден, и наоборот), то существо, которому впервые были предъявлены оба сигнала (вот она роль общения!) подпало под юрисдикцию феномена дипластии. "Дипластия – это неврологический, или психический, присущий только человеку феномен отождествления двух элементов, которые одновременно абсолютно исключают друг друга" [59]. Сшибка торможения и возбуждения или дипластия – "единственная адекватная форма суггестивного раздражителя нервной системы" [58]. Механизм суггестии необходимо встроен в феномен человеческого мышления: страдальческий невроз держания проблемных оппозиций, рождающий мысли (принимаемые с высоты "камни"), отличая человека от животного, является по существу ультрапарадоксальной фазой длиною в жизнь. Ультропарадоксальная фаза неустойчива, "биологически бессмысленна", пронизана трудом различАния на фоне осознания пропасти между мозгом, внешним миром и мышлением. Тяжел крест человечности, лишь с возрастом, – говорит Поршнев, – приходит (или не приходит) опытность, а с опытностью – умудренность. Невроз – функционально необходимая фундаментальная база мышления. Это как душа: если ничего не болит, то души нет, если болит, то, что болит, и есть душа. Так и невроз: нет невроза – нет мышления, но невроз желательно иметь в качестве рабочего инструмента, а не самому становиться его игрушкой. Крест человечности имеет и свою утешительную сторону. Животные, как правило, не смеются глазами. Исключение составляют разве в некоторой мере собаки и дельфины, способные к сопереживанию, тоске, скучающие без хозяина. Смех, как сказал бы Поршнев, реципрокная, или дополнительная, пара для плача, когда тормозится одно, возбуждается другое. Переход одного в другое – это особенно продуктивная, ультрапарадоксальная фаза. Гримасы плача и смеха неслучайно напоминают друг друга.
Созерцание простейших функциональных кирпичиков сознания, работающих на границе физиологии и духа, уточняет методики благочестивого подвига трезвения. Мы знаем, что трезвение достигается через установление Иисусовой молитвы умом в сердце, что изнутри сердца нам следует замечать помыслы еще на подходе и отражать их молитвой как бы херувимским мечом, пламенеющим и вращающимся во все стороны, отгоняющим врагов. Но теперь мы знаем и еще кое-что. А именно, что любая мысль происходит из проблемной оппозиции. И что получается? Установив молитву в сердце, я замечаю некий помысел и задаю себе вопрос: какая проблемная оппозиция, сконструированная мною недавно, его породила? Никакая? Тогда извините, я даже внимания на него не обращу, зачем мне извилины лишний раз трудить. Дьявол горд, он боится презрения, - говаривал своим ученикам Оптинский Старец Варсонофий. Подобным образом учил меня и мой духовник лет десять тому назад.
В 60-е годы, когда Поршнев вынашивал замысел своей книги, на Западе бурно развивалась методика нейро-лингвистического программирования (НЛП). По поводу НЛП бытует много страхов и предрассудков, но, думаю, не страшнее жизни эта методика, по существу, аутогенной тренировки. Ключевым понятием НЛП является понятие модальностей или каналов восприятия, коих насчитывается четыре: визуальный, аудиальный, кинестетический, дискурсивный. Ключевая идея заключается в том, что для надежности понимания мысли твоим собеседником или тобой самим нужно активизировать как минимум два канала восприятия, чтобы наступила та страдальческая открытость смыслу, которую Поршнев назвал дипластией. Во время православного богослужения активизированы все четыре: мы визуально следим за чинопоследованием службы, мы слушаем песнопения, мы обоняем запах ладана и восковых свеч, мы разумеваем богослужебные тексты и взаимоотнесенность всего вместе взятого. Святые Отцы знали, каким образом настроить структуры нашего сознания и открыть их живому богообщению.
Итак, продолжим знакомство с мыслями Поршнева о генезисе мышления. Важным этапом, считает ученый, было зарождение синтагм – "сдвоенных элементов одной и той же модальности", звуковой либо предметной. Синтагматика лежит в основе линейного (во времени или в пространстве) эпического и мифологического мышления. Мифологическое мышление по Леви-Строссу характерно возможностью "соединить что угодно с чем угодно" [60]. Поршнев понимает это так, что на стадии
10-09-2015, 22:55
